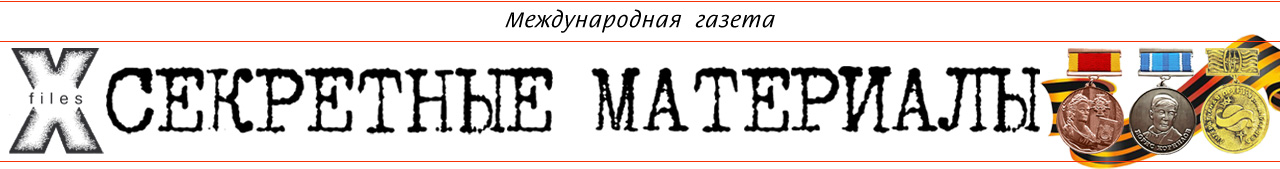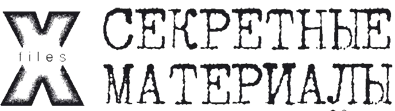|
ЯРКИЙ МИР
По следам царевны-лягушки
Анна Воджи
журналист
Санкт-Петербург
38

Изображение создано нейросетью «Шедеврум»
«Место женщины — на кухне». Так до сих пор полагают многие мужчины и, что самое замечательное, многие женщины. Часто эту мысль выражают более наукообразно: «В силу анатомических и физиологических различий между мужским и женским организмами, очевидно, что женщина самой природой предназначена для рождения и воспитания детей, а потому не следует требовать от нее достижений в других областях человеческой культуры» или более галантно: «Женщина — настолько прекрасное и благородное создание природы, что она не должна развивать свой ум в ущерб духовной красоте. Ее предназначение — быть вдохновительницей мужчины, нежной женой и матерью и хранительницей домашнего очага». Интересно, что если мы попробуем применить те же формулировки ко второй половине человечества, сразу станет очевидна их абсурдность. Когда речь заходит о «естественном», изначально предопределенном неравенстве между мужчиной и женщиной, в ход обычно идет исторический аргумент. Утверждается, что женщины с самых древних времен всегда занимались лишь домашним хозяйством, всегда прятались за мужской спиной, что культуры, в которых «нормальное» соотношение между полами нарушалось, всегда вымирали. Утверждается также, что только двадцатый век внес путаницу в отношения между мужчинами и женщинами, до этого из века в век все было в порядке: «Адам пахал, а Ева пряла». Но так ли это? Неужели всю сложность отношений между людьми, весь бесконечный спектр человеческих индивидуальностей можно уместить в одну простенькую формулу? Как же обстоят дела на самом деле? Попробуем разобраться. Начнем с каменного века. Тайна смерти Люси С точки зрения традиционалиста это — эпоха «правильного» распределения ролей в семье. Мужчина ходит на охоту и командует племенем, женщина поддерживает огонь в очаге, готовит обед и присматривает за детьми. Кроме того, она постоянно жует шкуры, чтобы обеспечить добытчика и кормильца мягкой удобной одеждой, а потому вынуждена молчать большую часть дня. Чем не идиллия? Одна из этих женщин — африканка Люси, найденная в 70-х годах XX века в Эфиопии молодым антропологом Дональдом Джохансом. «Исторический» возраст Люси — 3 — 3,7 миллиона лет, «биологический» — 25 — 30 лет. По нашим меркам она была очень миниатюрна — ее рост всего-навсего 107 сантиметров, а вес — менее 70 килограммов. При этом она была вполне взрослой особью, что определили по ее зубам мудрости, прорезавшимся у Люси за несколько лет до смерти. У нее также начали проявляться признаки артрита, о чем свидетельствовала деформация позвонков. О жизни Люси и ее сородичей известно очень мало. Их черепа были больше, чем у человекообразных обезьян, вероятно, они ходили на двух ногах, жили большими семьями, пользовались костяными орудиями, а каменных не изготавливали. Питались корнями, сочными стеблями травы, яйцами, добытыми из птичьих гнезд, мелкими животными. По всей видимости, не брезговали падалью и учились добывать костный мозг копытных животных, убитых и обглоданных крупными хищниками: львами, гепардами, гиенами. Возможно, они были племенем рыболовов, живущих на берегу озера и питающихся рыбой и моллюсками. Было ли у них какое-нибудь разделение труда? Какая-нибудь социальная стратификация? Говорил ли кто-нибудь Люси, что ее место на кухне? Были ли у нее дети? Воспитывала ли она их в одиночестве, или ей помогали другие женщины? Знала ли она, кто отец ее детей? Знал ли он о своих детях и проявлял ли к ним внимание? Археологические раскопки дают очень мало сведений о повседневной жизни наших предков, живших почти 4 миллиона лет назад. Если попытаться спроецировать на это давно исчезнувшее общество нравы, царящие среди пра-пра-пра-внучатых племянников Люси — шимпанзе — ответ на первые три вопроса скорее всего будет отрицательным. Хотя самцы и самки в обезьяньем стаде различаются и по размерам, и по поведению, нельзя сказать, что первые являются кормильцами, а вторые — хранительницами домашнего очага. Все одинаково собирают пропитание и порою даже делятся добычей друг с другом. Самцы дерутся между собой и даже, объединившись в банды, ведут войны за территорию, но это связано скорее со спецификой их полового поведения. Они соперничают за самок, но практически никогда не соперничают с самками, не делят с ними территорию, права и обязанности. С маленькими шимпами в первую очередь нянчатся их матери, но другие члены семьи, в том числе и самцы, не считают для себя зазорным поиграть с малышами. Если мы обратимся к опыту современных племен, живущих собирательством или рыболовством, мы увидим ту же картину: обязанности между мужчинами и женщинами распределены равномерно, часто выполняются сообща, не существует работы слишком тяжелой, слишком сложной или «неподобающей» женщинам. И, что самое удивительное, нет резких различий между физическим развитием мужчин и женщин — они обладают одинаковой силой и выносливостью. Как пишет антрополог-исследователь Маргарет Мид, «разделение труда существует, но когда оно переменяется, никто не возражает». Но можем ли мы со спокойным сердцем переносить все эти схемы на Люси и ее соплеменников? Конечно же, нет. Мы не знаем, насколько был развит их мозг, насколько сложной речь, было ли у них понятие о родстве, о предках и потомках, об обычаях, о табу и о «правильном» поведении. Мы даже не знаем, была ли Люси нашим непосредственным предком или она относилась к одной из многочисленных побочных ветвей эволюционного древа. Мы знаем только, что Люси прожила короткую по нашим меркам жизнь и умерла, но не знаем почему. На ее костях нет следов зубов хищников. Ее скелет сохранился практически полностью. Возможно, она умерла от падения с высоты или утонула в озере, возможно, скончалась от какой-то болезни. Ее скелет медленно покрывался песком, погребаясь все глубже и глубже. Потом песок под давлением последующих напластований стал твердым как скала. Она лежала в каменной могиле миллионы лет, пока дожди не вынесли ее снова на белый свет. Другое удивительное открытие, связанное с австралопитеками, было сделано в Восточной Африке на плато Летолил близ уснувшего вулкана Садиман. 4 миллиона лет назад он был действующим и во время одной из вспышек активности покрыл окружающее его плато толстым слоем пепла. На остывшем пепле отпечатывались следы животных, затем вулкан снова закрывал отпечатки и в результате сохранил для нас несколько «моментальных снимков» давно ушедшей эпохи. В одном из слоев пепла были обнаружены следы двух австралопитеков, которые в незапамятные времена прошли здесь вместе. По размеру и глубине отпечатков археологи предположили, что один из путников был мужчиной, а другой — беременной женщиной. Пожалуй, эти две цепочки следов являются лучшим символом того, что мы знаем об австралопитеках: они были, они некогда ходили по нашей земле, у них была своя жизнь, свой мир и они исчезли вместе с ним. То, чего мы не знаем Строго говоря, нет никаких прямых доказательств того, что в каменном веке мужчины занимались охотой, а женщины — домашним хозяйством. Вещи, обнаруженные на стоянках, принадлежат неизвестно кому. Нет возможности определить, что вон то копье принадлежало мужчине, а этот скребок для шкур женщине. Археологи не всегда могут с точностью сказать, был ли данный кремневый наконечник оружием или рабочим инструментом — и в том, и в другом случае мастеру нужны были заостренный кончик и тонкое, но прочное лезвие. Кстати, вполне возможно, что кремни употреблялись и так и эдак, в зависимости от обстоятельств. Человек, наделенный здравым смыслом, возразит: но ведь очевидно, что мужчины сильнее женщин, а потому ходить на мамонта им сподручнее. Любой анатом, взглянув на скелет современного человека, без труда определит, мужской это скелет или женский, ориентируясь на рост, массивность костей, выраженность костных выступов, служивших основанием для мышц, а главное — на особенности строения черепа и таза. Но определить половую принадлежность скелета, извлеченного из захоронения, зачастую невозможно без генетического анализа. Археологи не находят анатомических различий настолько ярких, чтобы без колебаний отнести одни костяки к женским, а другие — к мужским. Женщины палеолита не были настолько женственными, а мужчины — настолько мужественными, чтобы это было очевидно с первого взгляда. Да и самих погребений обнаружено пока слишком мало, чтобы составить убедительную статистику. Зачастую половую принадлежность захороненного определяют по инвентарю: если находят в погребении копье и топор, считают, что там лежал мужчина, если скребки, шило, бусы — женщина. Получается замкнутый круг: женщины занимались домашним хозяйством, потому, что в их могилах не находят оружия, а все могилы с оружием считаются мужскими. Я, конечно, нарочно довожу ситуацию до абсурда, но лишь потому, что многим тезис о жестком разделении труда в каменном веке кажется абсолютно бесспорным и непоколебимым. Меж тем мы механически переносим сложившуюся в настоящее время ситуацию в каменный век и пытаемся объяснить настоящее положение дел на основе созданного нами же мифа. Есть еще один биологический аргумент, который кажется бесспорным: при отсутствии контрацептивов женщины должны быть все время заняты вынашиванием и выкармливанием детей — где уж им охотится. Но и тут мы совершаем ошибку, опираясь на наши знания о физиологии современных женщин и возводя в ряд всеобщего закона знакомый нам социальный порядок, когда мать является главным человеком в жизни ребенка и отдает его выращиванию и воспитанию большую часть своего времени, а общество всячески ее к этому поощряет. На самом деле мы не знаем, насколько плодовиты были женщины палеолита, в каком возрасте они набирали достаточную массу тела для того, чтобы начать менструировать и получить возможность зачать ребенка. Мы не знаем, сколько детей могла выносить и родить женщина прежде, чем ее организм истощался настолько, что наступало временное или окончательное бесплодие. Ориентировочные подсчеты археологов очень скромны. Речь идет не о десяти — двадцати родах на протяжении одной человеческой жизни, а в лучшем случае — о трех-четырех, и то в периоды со сравнительно мягким климатом — короткими теплыми зимами и влажным летом. Подчеркиваю: мы говорим именно о количестве беременностей и родов, а не о количестве выкормленных и выращенных детей, оно могло быть еще меньше. Добытчики и добытчицы И все же спешу ободрить несколько сбитую с толку мужскую половину аудитории и сообщаю: есть по меньшей мере два косвенных доказательства того, что мужчины в каменном веке занимались преимущественно охотой, а женщины, как водится, всем остальным. Во-первых, на знаменитых рисунках в пещерах в сценах охоты на бизонов, оленей и других крупных животных участвуют именно мужчины, причем художник старательно подчеркивает их мужское достоинство. Второе — у большинства современных охотничьих племен охота все же является исключительно мужским занятием, а женщинам зачастую строжайше запрещено видеть охотничьи принадлежности и даже прикасаться к ним. Но действительно ли загонная охота на крупную дичь была так исключительно важна для выживания первобытных племен? И тут нам предстоит снова вернуться к тайне гибели неандертальцев и выживания кроманьонцев. Современные археологи считают, что неандертальцев сгубило похолодание. Ведь ледник приносит не только холодные зимы, но и засушливое лето, а значит, мамонтам, гигантским оленям и шерстистым носорогам стало не хватать травы. Они двинулись на юг, следом за ними отправились и неандертальцы. При этом они попали в зону степей, и прежние навыки охоты, которыми они в течение тысячелетий пользовались в лесной зоне, оказались неэффективными. Неандертальцы не сумели быстро перестроиться и вымерли от голода. Кроманьонцы были гибче, пластичнее и более привычны к путешествиям и переменам. Их рацион был более широк, они пользовались плодами собирательства, употребляли в пищу мелких животных, птицу, рыбу, улиток, а также растения и корни. Но если придерживаться гипотезы о традиционном распределении занятий, то получится, что основными добытчицами у кроманьонцев были все же женщины-собирательницы, ведь никто не усомнится в том, что женщина вполне способна расставлять силки, рыбачить, собирать коренья, гусениц или улиток. Выходит, пока мужчины развлекались, гоняясь за последними мамонтами, женщины в очередной раз спасли человечество. Или все же права и обязанности в первобытных племенах были распределены более равномерно? Некоторые археологи придерживаются именно этой точки зрения. Например Стивен Митен пишет в своей книге «После оледенения»: «Женщины играли важнейшую роль в жизни племени. Они собирали топливо для очага, разбирали и собирали каркасы жилищ, разделывали оленьи туши, обрабатывали шкуры, шили одежду, изготавливали орудия из камней, дерева и оленьего рога, готовили еду, присматривали за детьми, стариками и инвалидами. По ночам они пели и танцевали у общего костра. Женщины также ходили на охоту». Венеры, птички или? «Первым объектом искусства была женщина», — это утверждение тоже не совсем справедливо. Очевидно, что крупный рогатый скот вдохновлял первобытных художников ничуть не меньше, чем их спутницы жизни. И все же именно в палеолите появляются первые женские статуэтки, вырезанные из мягкого камня или рога — так называемые палеолитические Венеры. Их фигуры далеки от современных стандартов красоты — эти женщины являются обладательницами довольно объемистых животов и ягодиц, их груди сильно оттянуты вниз. Фигуры иногда обнажены, иногда одеты в меховые костюмы, иногда в «нижнее белье» — на их животах и груди можно различить узкие повязки, а иногда странные «хвосты», спускающиеся от ягодиц к пяткам. На ногах одной из статуэток можно увидеть обувь, наподобие мокасин. Волосы палеолитических Венер иногда распущены, иногда собраны на затылке в пучок, иногда заплетены в косу. Распространено мнение, что эти фигуры — изображения древнейших богинь человечества и свидетельства того, что каменный век был эпохой матриархата. На самом деле ученые не только не знают, кто правил в каменном веке, но они даже не пришли к единому мнению о том, какое значение для наших предков играли эти статуэтки. Были ли они изображением конкретных женщин (возможно женщин-прародительниц или шаманок), защитницами домашнего очага, оберегами для беременных женщин или чем-то еще? Никто не осмелится утверждать, что знает это доподлинно. Некоторые ученые видят в этих фигурках не только женские торсы, но и изображения небольших птичек (предположительно горлиц) и даже... фаллосов. Интересно также, что многие фигурки, по-видимому, не были предназначены для длительного использования. Судя по сохранности их не выставляли в пещере для поклонения, не передавали из поколения в поколение, а наоборот — закапывали в землю почти сразу же после изготовления. Так при раскопках одного из жилых домов поселения Костенки I была обнаружена неглубокая ямка, засыпанная охрой и перекрытая лопаткой мамонта — именно так люди каменного века обустраивали свои погребения. Но в ямке лежал не скелет, а женская статуэтка, вырезанная из бивня мамонта. Эту находку также можно трактовать по-разному — простор для воображения поистине безграничен. Повелительницы неолита Каменный век был безжалостен к новорожденным. Ребенок либо питался молоком матери, либо погибал. А это означало, что если племя не сможет прокормить своих женщин, оно обречено на вымирание. Но кочевая жизнь, бесконечная гонка за стадами животных сама по себе подвергала огромному риску детей, а значит и будущее человечества. И человечество в очередной раз нашло «асимметричный ответ» — изобрело земледелие и скотоводство. По-видимому, первым появилось скотоводство. Археологи полагают, что охотники стали оставлять в живых и прикармливать пойманный молодняк, а он постепенно стал размножаться и образовал стада. К числу первых домашних животных относятся овцы и козы, позже были одомашнены коровы, и новорожденные дети получили еще один источник молока кроме материнской груди. Считается, что это привело к резкому уменьшению младенческой смертности и настоящей демографической революции. А что насчет земледелия? Долгое время в учебниках археологии и истории этот процесс описывался приблизительно так: «При использовании плодов и семян диких растений какая-то часть их оставалась неиспользованной и давала всходы вблизи жилища». Иначе говоря, что-то случайно упало на землю, выросло, человек это заметил, хлопнул себя по лбу и тут же бросился распахивать первое поле. Наблюдения за жизнью современных племен скотоводов и земледельцев подсказали другую версию. Во многих племенах у женщин (как правило, именно у женщин) существуют свои особые садики, куда они бережно пересаживают и выращивают растения, имеющие для них особое значение, — растения с вкусными плодами, красивыми цветами, лекарственные и наркотические, а главное — растения, взятые из домашних садиков своих матерей и бабушек. При заключении брака девушка пересаживает растения из своего садика в сад семьи мужа. Так садик превращается в члена семьи и в зеленую хронику семейной истории. Одновременно, сами того не сознавая, женщины проводят первичную селекцию, отбирая лучшие экземпляры растений. Возможно, именно с таких садиков началась великая эра земледелия. Во всяком случае, историки полагают, что именно женщины мотыгами обрабатывали первые поля, в очередной раз обеспечивая выживание человечества. Вероятно также, женщины стали первыми гончарами и создали первые сосуды для хранения воды, молока и зерна. Первые находки окультуренных растений относятся к 9—8 тысячелетиям до нашей эры и происходят из так называемого «плодородного полумесяца» — плодородных земель в Передней Азии — Палестине, Сирии, юго-восточной Турции. Земледелие не только давало людям гарантированный кусок хлеба, но и побуждало их перейти от кочевой жизни к оседлой. И они сделали это очень быстро. На землях плодородного полумесяца появились не только маленькие поселки земледельцев, но и города. Женщины в деревне и в городе Анализ социальных отношений в земледельческих и скотоводческих общинах нередко свидетельствует, что при кажущемся неравенстве мужчина и женщина во многом равноправны: женщина может обладать имуществом, может передавать его по наследству, может сама принимать решение о вступлении в брак или разводе. И если вдуматься это неудивительно — крестьянин и крестьянка выполняют практически одинаковый объем работ, вносят одинаковый вклад в выживание семьи. Отношение к детям в таких семьях часто амбивалентное, противоречивое. Их любят, в них видят будущих кормильцев, но рождение маленьких детей зачастую вызывает страх перед появлением «лишнего рта». Женщина-мать, как правило, слишком занята работой для того, чтобы самой воспитывать детей. За малышами присматривают старшие дети или бабушки-дедушки. Острое неравенство возникает именно в городах, где женщины не могут претендовать на социально значимые должности правителей, городской охраны, чиновников и оказываются товаром в руках своих отцов и мужей. В этой ситуации их основной функцией становится ведение домашнего хозяйства и производство наследников, соответственно возникает хорошо знакомый нам образ Женщины Хранительницы Очага и Женщины Воспитательницы Детей. Таким образом, речь идет не о переходе от матриархата к патриархату, а о переходе от относительного равенства к абсолютному патриархату. Дата публикации: 7 апреля 2007
Теги: женщины
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~H9SgG
|
Последние публикации
Выбор читателей
|