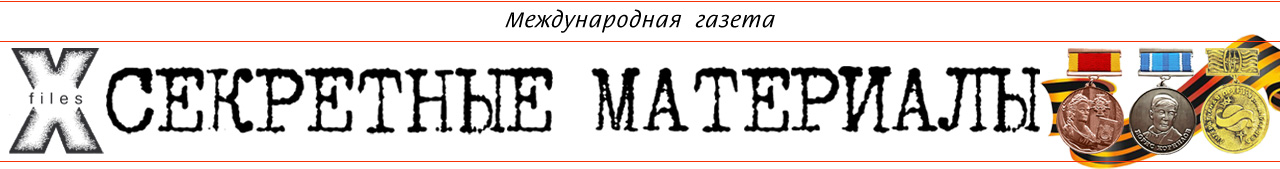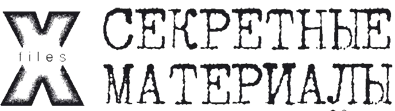|
СЕКРЕТЫ СПЕЦСЛУЖБ
Убить Тито
Василий Соколов
журналист, военный переводчик
Санкт-Петербург
154

Маршал Иосип Броз Тито. 1954
Лет шестьдесят тому назад я, в то время — студент кафедры славянской филологии ЛГУ, с гордостью носил на лацкане пиджака бронзовую звездочку с отчеканенным на ней профилем Тито — подарок югославских туристов. И вот однажды в коридоре филфака я столкнулся с Йоле Станишичем — поэтом, преподававшим югославскую литературу и теорию перевода. «Как ты можешь носить на груди портрет палача!» — воскликнул он, сорвал с меня значок и выкинул его в форточку. Страна обетованная К этому времени я уже знал, что Йоле несколько лет провел в югославском концлагере для политзаключенных на Голом острове. Его приговорили к длительному сроку каторжных работ за подготовку покушения на Иосипа Броз Тито — выходец из черногорского рода, искренне преданного русскому народу, он не мог вынести разрыва Тито с СССР. Из концлагеря Йоле бежал в Румынию, оттуда перебрался в Советский Союз, учился в Костромском пединституте. Потом переехал в Ленинград, работал в университете, в Пушкинском Доме — Институте русской литературы Академии наук. Готовил ли он в те далекие годы покушение на Тито — доподлинно неизвестно. Тем не менее сам Станишич признавал, что является политическим противником, более того — врагом Тито и созданного им режима. Но о своей подпольной деятельности никогда не говорил. Впрочем, в этом не было ничего удивительного: вероятно, подпольная работа моего преподавателя продолжалась и в славные годы застоя. Есть смутные сведения о том, что в начале 1970-х годов Тито решительно потребовал от Брежнева и Андропова прекратить подрывную деятельность югославских эмигрантов, которых в нашей стране было и остается весьма много — они пытались организовать «марксистско-ленинскую» компартию Югославии. Россия на протяжении веков была тем самым благодатным краем, в который устремлялись угнетенные южные славяне, преимущественно сербы и черногорцы. Началось это еще в XVI веке, и через два столетия переселение приобрело массовый характер. Именно к этому времени относится возникновение Новороссии, в которой осели многочисленные Аврамичи, Вучетичи, Милорадовичи, Кибальчичи и многие другие привычные русскому уху фамилии. Последняя волна эмиграции поднялась после знаменитого противостояния Сталин — Тито. Конец Коминтерна Причиной этой эмиграции стало, как ни странно, победоносное завершение Второй мировой войны. 15 мая 1943 года, за неполных два месяца до начала Курской битвы, президиум исполкома Коммунистического интернационала объявил о роспуске этой организации. Причин тому было много. Перечислим только некоторые из них. В ноябре предстояла конференция в Тегеране, на которой должен был решиться вопрос об открытии второго фронта, и Сталину наверняка хотелось предстать перед союзниками в новом, либеральном облике, продемонстрировать им, что Советский Союз возвращается в русло европейской цивилизации. Наверняка вождь знал о том, что американский дипломат Дэвис получил указание поднять на переговорах в Москве вопрос о Коминтерне. Ведь его деятельность фактически была направлена против империалистов США и Великобритании. 28 мая 1943 года Сталин заявил корреспонденту агентства Рейтер: роспуск Коминтерна «облегчает работу патриотов всех стран по объединению всех свободолюбивых народов в единый международный лагерь для борьбы против мирового господства гитлеризма». Кроме того, уже было понятно, что победа не за горами, и потому руководство СССР сочло возможным переложить задачу освобождения стран Восточной Европы и формирования в них нового государственного порядка не на национальные компартии, а на набравшую невероятную силу Красную армию. Под ее контролем легче было устанавливать власть «народной демократии», на что в мае все того же 1943 года был сориентирован созванный в Москве Конгресс славянских народов. Следует также признать, что Сталин давно вынашивал мысль о роспуске Коминтерна, который к концу 1930-х годов стал утрачивать свое значение как центр планирования мировой революции и разведывательной деятельности. Об этом свидетельствует тот факт, что еще в апреле 1941 года он согласился с мнением руководства Исполкома Коминтерна о необходимости поиска новых принципов взаимодействия компартий. Власть должна быть в одних руках — руках генералиссимуса победоносной армии. Итак, Коминтерн прекратил существование. Однако почти весь его аппарат влился в отдел международной информации ЦК ВКП (б). Бережно была сохранена и концепция единства мирового коммунистического движения, что не преминул отметить в личном дневнике Йозеф Геббельс. 25 мая 1943 года он записал: «Я лично считаю, что действующие в подполье коммунистические партии гораздо более опасны, чем те, которые находятся под контролем до тех пор, пока окончательно не исчезнут». От знакомства до любви... Одним из «любимых» вождей компартий Восточной Европы у Сталина, помимо Георгия Димитрова, был Иосип Броз Тито. «Рабочий-металлист», как он любил называть себя, побывал официантом, послужил командиром разведвзода австро-венгерской армии, повоевал в Первую мировую с Сербией, прошел через русский плен. В конце 1960-х годов средства массовой информации СССР и СФРЮ даже пытались запустить в оборот легенду о том, что Иосип Броз, находясь в Петрограде, то ли участвовал в июльских событиях, то ли даже в октябре 1917-го штурмовал Зимний. Достоверно известно только одно: будущий маршал в период с 1915 по 1920 год точно находился в России. И вряд ли его тогдашняя жизнь была связана с бурной революционной деятельностью. Она началась лишь по возвращении на родину, которая к этому времени звалась уже не Австро-Венгерской империей, а Королевством сербов, хорватов и словенцев. В феврале 1929 года Иосипа Броз впервые приговаривают к шести годам каторги, а в октябре государство меняет название на Королевство Югославия. Выйдя из заключения, он становится членом политбюро, а в феврале 1935 года в Москву из Праги прибывает Йозеф Гофмахер — так теперь звали Иосипа Броз (Тито он стал в августе 1934-го; всего же он использовал более трех десятков псевдонимов). Судя по официальной биографии, его послали в СССР в качестве представителя Югославии в Профинтерне — дочерней структуре Коминтерна. Однако даже официальные документы свидетельствуют о том, что Фридрих Фридрихович Вальтер, он же Тито, отчитывался только перед Исполкомом Коминтерна. По другим сведениям, деятельность Тито в Москве носила совершенно иной характер. Правда, вряд ли можно доверять свидетельству одного из молодых сподвижников Тито, Марко Струне, который однажды заявил, что «Броз с 1922 по 1924 год в Москве был слушателем Высшей школы НКВД, получил советское гражданство и звание генерал-лейтенанта. Он же, обосновывая прочность политических позиций Тито в 1930-е годы, утверждал, что «именно он привел к Сталину Берию и уговорил назначить последнего шефом советской тайной полиции». Гораздо ближе к истине свидетельство другого соратника Тито — многолетнего председателя Скупщины Союзной республики Хорватии Ивана Краячича, скончавшегося в 1988 году: «В Москву я прибыл в качестве курьера ЦК КПЮ. Там я провел вместе с Тито целый месяц. Тогда он и признался мне, что занимается разведывательной деятельностью. Ему не нравилась эта работа, он рассчитывал учиться в одном из вузов для иностранцев. Коминтерн же давал ему только кадровые задания. Он наблюдал за работой каждого коммуниста в отдельности, независимо от должности и положения в иерархической структуре Коминтерна. Едва прибыв в Москву, Тито написал донесение о положении в КПЮ. Со мной он консультировался в отношении товарищей, пребывавших в Париже. Потом он просил меня помочь в сборе сведений о наших людях, работавших в зарубежных разведцентрах. Тогда Тито и получил первое задание от Коминтерна. Ему поручили подобрать людей для работы разведцентра в Вене. К работе в разведке меня привлек Тито. Мы были разведчиками и передавали центру требуемые сведения, даже не подозревая, что работаем на СССР. Работая на Коминтерн, мы полагали, что служим своей стране. Большую часть наших информаций для Москвы составляли сведения о сепаратистах и внутрипартийных сектантах, о троцкистах и предателях, не выдержавших полицейского нажима. Русские отлично знали, что творится в нашей партии. Было совершенно очевидно, как рассказывал мне Тито, что у русских в нашей партии есть своя разведывательная сеть, как на родине, так и за границей. Следует подчеркнуть, что работа Тито в Коминтерне была скорее контрразведывательного, нежели разведывательного характера. И наверняка его информация совпадала с информацией русских шпионов, иначе без поддержки Коминтерна он не стал бы генеральным секретарем КПЮ». ... и от любви до ненависти Начиная с 1935 года, Иосип Броз проводит в Москве очень много времени, покидая ее с молниеносными визитами на родину (вполне возможно, и в другие европейские страны). Он борется с сектантами внутри КПЮ, мобилизует добровольцев для участия в гражданской войне в Испании. Именно по его настоянию в феврале 1938 года Коминтерн принимает решение распустить зарубежное руководство. В костяк нового ЦК наряду с Тито вошли Милован Джилас, Александр Ранкович и Эдвард Кардель. Запомните эти имена. Десять лет спустя именно они станут «кровавой кликой». А пока что жизнь идет своим чередом — по-сталински… Сербский журналист Марко Лопушина в книге «Убей ближнего своего» сообщает: «С укреплением югославской фракции внутри Коминтерна, что напрямую связано с возвращением Иосипа Броз в Королевство Югославия, нарастают политические и шпионские схватки между промосковскими элементами и сторонниками Иосипа Броз. Развитие событий показало, что в этой борьбе победил Иосип Броз. На него пало подозрение в том, что он организовал «героическую гибель» (или просто ликвидацию) всех своих конкурентов, от Милана Горкича и Петко Милетича до Мустафы Голубича и членов его белградской разведывательной сети. Главными ликвидаторами противников Тито были Борис Кидрич, Иван Караиванов, а также Милован Джилас». Тито становится верным проводником политики Коминтерна и лично товарища Сталина. Иосип Броз Тито Советский Союз в 1942 году признает партизанскую армию Тито единственным своим союзником в борьбе с немецко-фашистскими войсками, тем самым де-факто признавая Иосипа Броз главой сражающегося государства. В апреле 1945 года в Москве подписан договор о союзе между СССР и Югославией. Официальная делегация гостит в столице несколько дней, и в эти дни Сталин регулярно встречается с Тито в неофициальной обстановке. Милован Джилас, участвовавший почти во всех встречах, отмечает: «В отношениях между Сталиным и Тито было что-то особое, недосказанное — как будто между ними существовали какие-то взаимные обиды, но ни один, ни другой по каким-то своим причинам их не высказывал. Сталин следил за тем, чтобы никак не обидеть лично Тито, но одновременно мимоходом придирался к положению в Югославии. Тито же относился к Сталину с уважением, как к старшему, но чувствовалось, что он дает отпор, в особенности сталинским упрекам по поводу положения в Югославии». Еще летом 1946 года, свидетельствует далее Джилас, «Сталин обнимал Тито, предсказывал ему будущую роль в европейском масштабе, относясь с явным пренебрежением к болгарам и Димитрову». Однако над искренней дружбой вождей и народов уже собирались грозовые тучи. Однако обе стороны как будто старались не замечать изменений в политической атмосфере. Ссора вождей На западных территориях Польши, которые после победы отошли к ней от Германии, в сентябре 1947 года в глубокой тайне была создана закрытая политическая структура — Информационное бюро коммунистических и рабочих партий, или просто — Коминформ. Помимо ВКП (б), идею создания этого межпартийного органа горячо поддержала компартия Югославии. С большим скептицизмом к ней отнеслись представители других компартий, а руководитель польских коммунистов Гомулка вообще был против создания новой структуры. Было совершенно очевидно, что Коминформу предстоит стать новым «руководящим и направляющим» центром, полностью подчиненным Москве. В число основателей Коминформа вошли компартии Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, а также Италии и Франции. Резиденцию Коминформа намеревалась разместить у себя Прага, однако Сталин настоял на Белграде. Там же приступили к изданию газеты под длинным названием «За прочный мир, за народную демократию»: вождь счел, что западная пропаганда, цитируя газету, будет вынуждена каждый раз произносить этот замечательный, по его мнению, лозунг. Вскоре после создания коммунистического супероргана по странам «народной демократии» прокатилась волна политических процессов, в результате которых оборвались жизни почти всех руководителей компартий, а в Италии и Франции обострилась внутрипартийная борьба. И только компартия Югославии оставалась в стороне. Причина неподчинения гласным и негласным указаниям Москвы крылась в независимости маршала Тито. Амбициозный и талантливый лидер справедливо счел, что он практически самостоятельно, без особой поддержки Красной армии освободивший свою страну, имеет право на руководящую роль не только в своей стране, но и на Балканском полуострове. Он выдвинул идею Балканской федерации, в которую должны были войти сначала Болгария, затем Албания с Румынией. Кроме того, исключительно сложная ситуация сложилась в те годы в Греции — там полыхала гражданская война. Тито втянул в переговоры о федерации и командующего повстанческими войсками на севере Греции генерала Маркоса. Такое самоволие возмутило советских руководителей. К тому же Тито не учел, что о такой же федерации, только в гораздо больших масштабах, мечтал и Сталин. Он мыслил включить в нее Чехословакию с Польшей и подчинить новое государственное образование Советскому Союзу. 10 февраля 1948 года на советско-болгарско-югославской встрече вождь всех народов потребовал создавать Балканскую федерацию по советскому проекту. Жесточайшей критике подвергся Георгий Димитров. 13 лет пребывания в Москве в самые страшные годы сломали пламенного коммуниста: даже его шурин и по совместительству личный телохранитель Вылко Червенов был завербован НКВД. Герой процесса о поджоге Рейхстага покаялся перед Сталиным. Тито настаивал на своем, и обиженные вожди вступили в переписку. Вот фрагмент второго письма Сталина Тито: «Нам известно, что в среде руководящих товарищей в Югославии бытуют различные антисоветские высказывания, как например, что «ВКП (б) вырождается», что «в СССР господствует великодержавный шовинизм», что «СССР стремится экономически поработить Югославию», что «Коминформ — средство ВКП(б) для подчинения других партий» и тому подобные. Эти антисоветские заявления обычно прикрываются левацкой фразеологией о том, что «социализм в СССР перестал быть революционным», что «только Югославия является настоящим носителем революционного социализма». Конечно, смешно слушать подобные сказки о ВКП (б) из уст сомнительных марксистов типа Джиласа, Вукмановича, Кидрича, Ранковича и других. Но дело в том, что такие заявления давно бытуют в среде многих руководящих деятелей Югославии, продолжают иметь место и сейчас, создают атмосферу антисоветизма, которая ухудшает отношения между ВКП (б) и КПЮ». Кстати, к этому времени Коминформ перебрался в Бухарест. Приказано уничтожить? Поддержка Тито слишком дорого обошлась Георгию Димитрову. В январе 1949 года на Софийском аэродроме произвел промежуточную посадку самолет печально знаменитого «юриста» Андрея Вышинского, направлявшегося в командировку. 63-летний премьер Болгарии беседовал с советским государственным деятелем в салоне самолета, когда дверь неожиданно захлопнулась и аэроплан… взлетел. После длительного молчания в прессе появилось сообщение о тяжелой болезни Димитрова. Его лечили в Москве, и 2 июля того же года его не стало. В октябре 1949-го дипломатические отношения между Москвой и Белградом были разорваны, а 29 ноября Коминформ опубликовал резолюцию «Югославская компартия во власти убийц и шпионов». На страницах советских газет появилась устойчивая формулировка: «кровавая клика Тито — Ранкович». Вот тогда-то и осело в Советском Союзе до сих пор остающееся в тайне число граждан Югославии. В основном это были студенты вузов, курсанты и слушатели военных училищ и академий. Многие, подобно Йоле Станишичу, бежали в страны «народной демократии» и в СССР. Непослушного Тито следовало наказать, уничтожить морально, а по возможности — физически. Естественно, документальные данные о подготовке покушения на Тито (даже если таковые и существуют) нам недоступны. Единственным документом являются воспоминания Павла Судоплатова о письме группы чекистов в адрес Сталина. В этом письме говорилось: «МГБ СССР просит разрешения на подготовку и организацию теракта против Тито с использованием агента-нелегала Макса — тов. Григулевича И. Р., гражданина СССР, члена КПСС с 1950 года». Далее излагался проект: «Поручить Максу добиться личной аудиенции у Тито, во время которой он должен будет из замаскированного в одежде бесшумно действующего механизма выпустить дозу бактерий легочной чумы, что гарантирует заражение и смерть Тито и присутствующих в помещении лиц. Сам Макс не будет знать о существе применяемого препарата». И еще несколько таких же наивных способов уничтожения врага. Сталин не сделал на письме ни одной пометки. Судоплатов резко выступил против наивного проекта, охарактеризовав Тито как серьезного противника, «который участвовал в боевых операциях в военные годы и, безусловно, сохранит присутствие духа и отразит нападение». И далее последовало поразительное признание: «Я сослался на нашего агента Вала — Момо Джуровича, генерал-майора в охране Тито. По его отчетам, Тито был всегда начеку из-за напряженного внутреннего положения в Югославии. К сожалению, Вал в связи с внутренними интригами, не так уж отличавшимися от наших, потерял расположение Тито и в настоящее время сидел в тюрьме». Следовательно, работа лично против Тито велась. И велась не радикальными романтиками типа Йоле Станишича, не туповатыми служаками из послевоенного МГБ, а профессионалами высочайшего класса, каким был Судоплатов. P. S.
Тито ответил Сталину жесточайшими репрессиями против собственного народа. Дата публикации: 16 апреля 2007
Теги: Иосип Броз Тито Югославия
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~BYfVT
|
Последние публикации
Выбор читателей
|