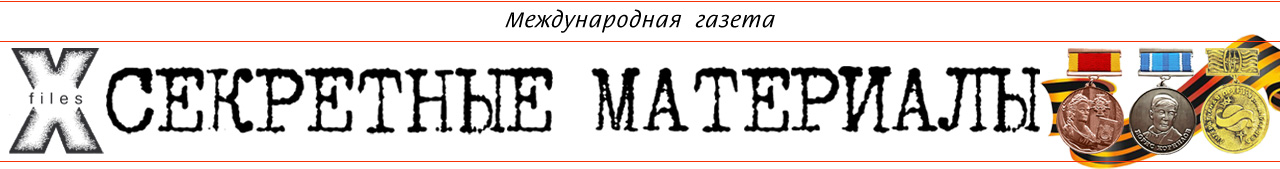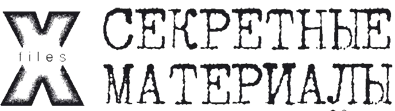|
РОССIЯ
Пропавшая рукопись
Александр Качанов
журналист
Санкт-Петербург
339

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765)
4 апреля 1765 года скончался Михаил Васильевич Ломоносов. Еще гроб с телом великого ученого стоял в доме на Мойке, а его кабинет с рукописями, книгами и перепиской был опечатан по указанию фаворита Екатерины II Григория Орлова. В тот ли день, когда поразившее современников огромное стечение народа провожало Ломоносова в его последний путь на кладбище Александро-Невской лавры, или назавтра, но Орлов забрал во дворец к императрице весь архив Ломоносова... Загадочная прыть фаворита не прошла мимо внимания современников. В основном они сошлись на том, что Григорий Орлов чрезвычайно ценил гений великого помора, сам увлекался физическими и химическими опытами и поэтому уговорил вдову ученого продать ему рукописи и библиотеку. Но согласитесь: опечатать кабинет Ломоносова тотчас по его смерти — весьма странный способ проявить уважение к памяти покойного. Что же касается покупки и уговоров, то даже на первый взгляд эта версия выглядит надуманной. Зачем всесильному вельможе уговаривать бедную вдову что-то ему уступить или продать? Да и сама вдова Ломоносова, отвечая на запрос Академии наук, пытавшейся получить от нее книги, взятые мужем из академической библиотеки, совершенно недвусмысленно писала, что эти книги забраны во дворец вместе со всеми бумагами. «Забраны»... Но зачем? Может быть, Григорий Орлов так и фигурировал бы в истории в качестве бескорыстного почитателя великого ученого, если бы до нас не дошли частные письма начальника академической канцелярии Тауберта — человека, весьма близкого ко двору Екатерины II. Сообщив, что кабинет Ломоносова опечатан, он так объясняет причину: «Без сомнения, в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки». Краешек таинственного покрова начинает приподниматься. Но что же это были за рукописи, к которым императрица и ее фаворит проявляли столь пристальное внимание? Почему они так боялись, что архив попадет в чужие руки? Ответы на эти вопросы ведут к новой тайне! Рукописи Ломоносова и его библиотека бесследно пропали, и все их поиски, которые длятся вот уже более двух веков, ничего не дали. Уничтожены? Утрачены в результате небрежного хранения? Но как объяснить тот факт, что один из приближенных к Екатерине вельмож ссылается на Ломоносова при характеристике событий XIII века, тогда когда его «Древняя российская история» заканчивается смертью Ярослава Мудрого, то есть 1054 годом? Как получилось, что Академией наук была публикована лишь первая часть этой книги, а вторая, содержащая аргументацию, тексты и анализ исторических документов, так и не появилась в печати? Поэтому становится очевидным, что вовсе не сочинения по физике или химии боялись «выпустить в чужие руки» императрица и ее фаворит. Но тогда что же? Завесу над этой тайной приоткрывают несколько клочков бумаги, которые случайно сохранились после того, как «почитатель» великого ученого граф Григорий Орлов конфисковал его архив. Эти клочки были подобраны и сохранены малолетней дочкой Ломоносова Еленой, а многие десятилетия спустя переданы ее потомками в Академию наук. И какими необыкновенно важными оказались для истории эти невзрачные листки! На них Ломоносов записал темы восьми основных и шести дополнительных статей, которые считал наиболее актуальными. Они затрагивали самые острые социально-экономические проблемы жизни и развития государства Российского. Одна из этих статей до нас дошла, и ее судьба говорит о многом. Ломоносов 1 ноября 1761 года преподнес фавориту Елизаветы графу Ивану Шувалову рукопись «О сохранении и размножении российского народа». Михаил Васильевич хорошо понимал, что опубликовать такую статью без его поддержки не сможет. Но всесильный фаворит не только не помог ученому, но даже никому не обмолвился о рукописи! Она была случайно обнаружена только много лет спустя после смерти Шувалова, при разборке его бумаг. Лишь в 1819 году статья Ломоносова была впервые публикована с большими цензурными купюрами. Но и в таком чрезвычайно урезанном виде она наделала в верхах немало шума. Пропустивший ее цензор был с треском уволен со службы. Взбешенный министр духовных дел и народного просвещения князь Голицын доносил Александру I, что статья содержит «мысли предосудительные, несправедливые, противные православной церкви и оскорбляющие честь нашего духовенства», и поэтому не должна была печататься. А министр внутренних дел в своем циркуляре грозно приказывал, чтобы «распространение письма Ломоносова в публике было запрещено». Лишь после Крестьянской реформы 1861 года сочинение великого ученого смогло увидеть свет целиком, да и то на страницах специального научного журнала. Но ведь к графу Ивану Шувалову попала только одна работа из четырнадцати, которые были перечислены на упоминавшемся клочке бумаги. Зная содержание первой, мы видим, что у «просвещенной» императрицы и ее окружения были все основания опасаться, что рукописи Ломоносова могут получить широкую огласку в тогдашнем российском обществе, да и в Европе тоже. А если мы вчитаемся во второй чудом сохранившийся листок, на котором Ломоносов всего за месяц до смерти набросал план своей так и не состоявшейся беседы с императрицей, то увидим, с какой болью и гневом он написан: «За то терплю, что стараюсь защитить труды Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют». И великолепная, грозная последняя строка на листке — строка, показывающая, что и умирающий великий помор был полон непоколебимого мужества и человеческого достоинства, многое предвидел: «Ежели не пресечете, великая буря восстанет!» Не пройдет и десяти лет, как екатерининский двор содрогнется от ужасов крестьянской войны Емельяна Пугачева... Вряд ли тайна исчезновения рукописей Ломоносова будет когда-нибудь разгадана. И вряд ли мы когда-нибудь узнаем их содержание. Но одно можно сказать точно: если бы архив ученого сохранился, совсем другим предстал бы перед нами Ломоносов, которого время и судьба заставляли писать пышные оды венценосным особам и их вельможному окружению. Недаром Михаил Васильевич еще в 1759 году с горечью заметил графу Шувалову: «Мои манускрипты могут ныне больше сослужить, нежели я сам, не имея от моих доброжелателей покоя». Вот эти-то бесценные манускрипты и погубила императрица Екатерина II со своим фаворитом графом Григорием Орловым. Мы знаем великого Ломоносова — ученого, поэта, художника. Но Ломоносова — великого публициста и гражданина — «просвещенная» императрица у нас украла! А бумажные клочки содержат еще одну тайну. Под №8 здесь значится тема: «О сохранении воинского искусства и храбрости во время долговременного мира». И к ней добавлена дополнительная тема, для нас неожиданная и сенсационная: Олимпийские игры! Они прекратили свое существование в конце IV века нашей эры и возродились лишь в 1898 году, то есть через 133 года после смерти Ломоносова. Как-то даже не укладывается в голове: неграмотная, лапотная, забитая крепостная Россия середины XVIII века — и вдруг Олимпийские игры! Да еще в качестве важнейшей проблемы, решения которой требуют общенациональные интересы, рядом с вопросами «о исправлении земледелия», «о просвещении народа», «о лучших пользах купечества», «о исправлении и размножении ремесленных дел». Как видим, проблема Олимпийских игр рассматривалась Ломоносовым в одном ряду с важнейшими задачами общегосударственного значения. Ну а как Михаил Васильевич мыслил себе решение этой проблемы, что он в нее вкладывал, в каких формах предлагал осуществить — это еще одна тайна. Что привело его к этой проблеме, ведь в XVIII веке Олимпийские игры были давно забыты, — тоже тайна. Не тайна лишь их цель — «сохранение храбрости», воспитание мужества, стойкости и закалки. К великому сожалению, нам остается только гадать, какими новыми яркими гранями засверкал бы перед нами гений Ломоносова, сохрани Екатерина II его рукописное наследие! Дата публикации: 20 июля 2007
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~UKRWP
|
Последние публикации
Выбор читателей
|