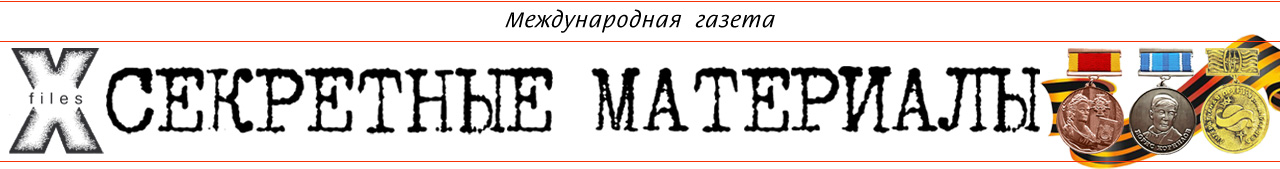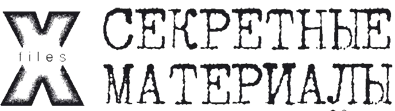|
ЖЗЛ
«Секретные материалы 20 века» №25(515), 2018
Тургенев и Достоевский: как поссорились два гения
Наталья Дементьева
журналист
Санкт-Петербург
27927
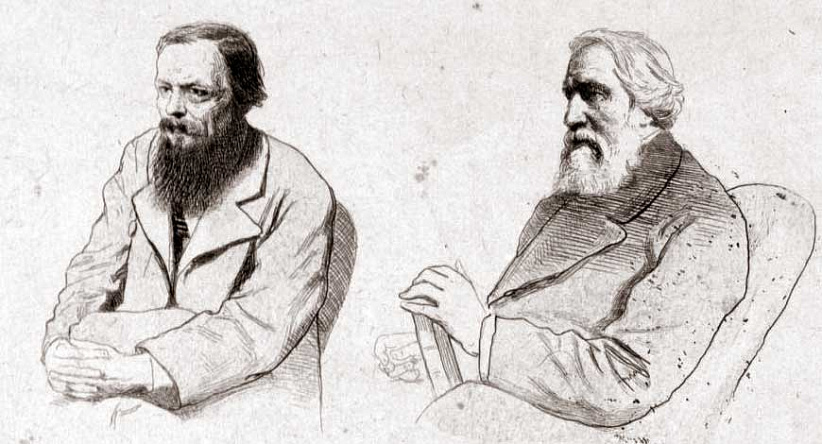
Достоевский и Тургенев, 1880 год
Будущие классики русской литературы познакомились в Петербурге в 1846 году. Достоевскому исполнилось 25 лет. Он находился в самом начале тернистого пути к славе. Тургенев был старше Достоевского всего на три года, но уже занял почетное место на литературном олимпе. Достоевский решил зарабатывать на жизнь писательским трудом, и ему частенько приходилось обедать булкой, запивая ее ячменным кофе. Тургенев – богатый барин, проводящий время в заграничных вояжах. Однако столь несхожие молодые люди подружились... Федор Михайлович Достоевский ворвался на литературный небосклон, как комета. Роман «Бедные люди» был опубликован в январе 1846 года и стал для читателей неожиданным явлением блестящего таланта. Роман был первым произведением Достоевского – и вдруг весь Петербург оказался у его ног. Сам император Николай I заинтересовался романом. Литератор Иван Иванович Панаев писал: «Достоевского мы носили на руках и, показывая публике, кричали: «Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему. Кланяйтесь!» Собратья по перу наперебой приглашали Достоевского в гости, он знакомился с людьми, ранее для него недоступными. «На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал), – писал Достоевский старшему брату Михаилу, – и с первого раза привязался ко мне такою дружбою, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богат, умен, образован, я не знаю, в чем природа отказала ему?» Кондрашка с ветерком Достоевский пребывал в состоянии эйфории от оглушительно успеха, но болезненная мнительность, раздражительность в одно мгновение могли прийти на смену благостному настроению. Однажды у Тургенева собрались литераторы поиграть в карты. Кто-то из гостей удачно пошутил, и все собравшиеся разом рассмеялись. В это время в комнату вошел Достоевский. Услышав общий хохот, он остановился на пороге и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Прошло некоторое время, и Тургенев спросил своего камердинера; – Где Федор Михайлович? Слуга доложил, что господин Достоевский уже час гуляет по двору без шапки, несмотря на лютый мороз. Тургенев немедленно пошел искать Достоевского. – Боже мой! Это невозможно! Куда ни приду, везде надо мной смеются. К несчастью, я видел с порога, как вы засмеялись, увидев меня, – с горечью заявил Федор Михайлович. Напрасно Тургенев уговаривал Достоевского не принимать смех на свой счет, он не поверил, взял шапку и ушел. Сложилось единодушное мнение, что у Достоевского чрезвычайно тяжелый характер. Немногие знали, что раздражительность, угрюмость, обидчивость были следствием эпилепсии, которой страдал Достоевский. Усиленная работа над «Бедными людьми», плачевное денежное положение усилили болезнь: «Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки, – вспоминал писатель Григорович. – Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но прежде, чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок, настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую молочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три». В молодости Достоевский относился к своей «падучей болезни» довольно легкомысленно, называя ее «кондрашкой с ветерком». Депрессивное состояние сменялось желанием жить на полную катушку, познавать беззаботные радости жизни. Получив свой первый гонорар, Достоевский закутил. Друзья были начеку и строго отчитали за рассеянный образ жизни и интерес к дорогостоящим куртизанкам. «Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоют страшных денег, – писал Достоевский брату. – На днях Тургенев и Белинский разгромили меня в прах за беспорядочную жизнь». Дружба с Тургеневым подверглась тяжкому испытанию, когда Достоевский закончил роман «Двойник». На квартире Белинского устроили читку нового произведения. Рукопись была прочитана до половины, сделали небольшой перерыв. Тургенев похвалил изобретенное Достоевским слово «стушеваться» и откланялся, сказав, что его ждут неотложные дела. Демонстративный уход был понятнее длинных рецензий. Федор Михайлович страшно переживал, избегал прежних друзей и стал очень нервным. «При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, – вспоминал Григорович, – он не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что, дай только время, он всех их в грязь затопчет. После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским». На писателя, которого недавно провозгласили «маленьким гением», посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии. Литературная молодежь обожала подшучивать, подтрунивать друга над другом. «Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, говоря, что он несравненно выше их по своему таланту, – вспоминал Панаев, – и пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев – он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения». Даже малозначительные происшествия с Достоевским удостаивались пристального внимания. Светская красавица Сенявина пожелала, чтобы ей был представлен модный писатель Достоевский. «Барышня изящно пошевелила своими губками и хотела отпустить нашему кумирчику прелестный комплимент, как вдруг он побледнел и зашатался, – писал Панаев. – Его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном. Он очнулся. Но уже больше не выходил в салон». Обморок стал поводом для эпиграммы, сочиненной Некрасовым и Тургеневым. Начинается она таким четверостишием:
Витязь горестной фигуры, Авторы шутили над обмороком, не зная, что это была форма эпилептического припадка. Едва ли Достоевскому было от этого легче. Кому понравится, когда друзья, пусть даже в шутку, называют тебя «новым прыщом» и «пыщом»? Это забытое ныне слово означало напыщенный человек. Крошечные семена обиды и непонимания были посеяны, но еще долгое время не давали ядовитых всходов. Пламенный революционер Весной 1846 года Достоевский познакомился с Михаилом Васильевичем Петрашевским, страстным поклонником идей утопического социализма. В домике Петрашевского в Коломне по пятницам собирались писатели, студенты, молодые офицеры и чиновники. Петрашевцы мечтали обустроить Россию и «покрыть всю землю нищую дворцами, плодами и разукрасить в цветах». Петрашевцы с восторгом читали письмо Белинского к Гоголю, которое критик написал 3 июля 1847 года, будучи уже смертельно больным. Письмо Белинского стало манифестом против «лжи и безнравственности под покровительством кнута и религии». «Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности, – писал Белинский. – Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства». Тогда Достоевский соглашался с идеями Белинского. Впрочем, о сокрушении самодержавия в кругу петрашевцев не было и речи. Только небольшая группа единомышленников хотела завести тайную типографию для пропаганды революционных идей. Достоевский примкнул к этим наиболее радикально настроенным товарищам. В апреле 1848 года было арестовано сорок петрашевцев. Следственная комиссия квалифицировала Достоевского как одного «из важнейших преступников». Военный суд приговорил двадцать одного петрашевца, среди них и Достоевского, к смертной казни. Ранним декабрьским утром 1849 года осужденных привезли на Семеновский плац. Первых трех смертников, одетых в белые балахоны с капюшонами, привязали к столбам. На приговоренных направили ружья, но команда «Пли» не прозвучала. «Я был во второй очереди, и жить мне оставалось не больше минуты, – писал Достоевский брату. – Наконец, ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что Его Императорское Величество дарует нам жизнь. Затем последовал настоящий приговор». Достоевского приговорили к четырем годам года каторжных работ и бессрочной службе рядовым. За годы каторги Федор Михайлович духовно переродился, считая революционный период своей жизни и отречение от Христа грехом против русского народа. «Обленившийся буржуй» и бывший каторжник «Помню, что выйдя в 1854 году в Сибири из острога, – вспоминал Достоевский, – я начал перечитывать всю написанную без меня за пять лет литературу. («Записки охотника», едва при мне начавшиеся, и первые повести Тургенева я прочел тогда разом, залпом и вынес упоительное впечатление). Правда, тогда надо мною сияло степное солнце, начиналась весна, а с ней совсем новая жизнь, конец каторги, свобода!» Первое радостное впечатление после освобождения – чтение повестей Тургенева. Находясь в сибирской глухомани, Достоевский не пропускал ни одной тургеневской новинки. «За нынешний год я почти ничего не читал, – писал Достоевский в 1856 году. – Тургенев мне нравится наиболее – жаль только, что при огромном таланте в нем много невыдержанности». Тургенев и Достоевский встретились в Петербурге после долгой разлуки в конце 1859 года. От молодой горячности и общности взглядов не осталось и следа. На главный и вечный для России вопрос «Что делать?» Достоевский и Тургенев отвечали по-разному. Тургенев полагал, что люди, которые стараются отлучить Россию от Европы, просто не верят в русский народ: «Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой – нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец!» Для Достоевского в центре мира стоял Христос, смысл и цель истории человечества. Он верил в особый христианский путь России. Став убежденным монархистом, Достоевский проповедовал необходимость мирного объединения высших слоев общества с «почвой», с русским народом, который живет идеей православия. Виделись старые друзья редко. Тургенев бывал в Петербурге нечасто, наездами. Находясь за границей, он вел активную переписку: опубликовано 4500 писем Тургенева. Среди адресатов есть и «любезнейший Федор Михайлович». Тон писем всегда чрезвычайно вежливый и дружелюбный. Тургенев сетовал, что, живя за границей, превратился в «обленившегося буржуя», и переживал, что Достоевский вынужден работать свыше человеческих сил: «Я часто думаю о вас все это время, обо всех ударах, которые вас поразили, – искренно радуюсь тому, что вы не дали им разбить вас в конец. Боюсь я только за ваше здоровье, как бы оно не пострадало от излишних трудов». Достоевский жаловался милейшему Ивану Сергеевичу на житейские трудности и безденежье. Федор Михайлович задумал издание журнала «Эпоха» и просил, просто умолял Тургенева прислать его новую повесть «Призраки». Достоевский считал, что тургеневская повесть обеспечит интерес читателей, а значит, и финансовый успех. Однако в письме брату Михаилу откровенно заявил: «Призраки», по-моему, в них много дряни: что-то гаденькое, больное, старческое, неверующее от бессилия, одним словом, весь Тургенев с его убеждениями, но поэзия многое выкупит». Повесть «Призраки» была опубликована в первом номере журнала «Эпоха» в марте 1864 года. А в 1867 году за один день, вернее, за один час многолетнее знакомство превратилось в многолетнюю вражду. «Ваш роман подлежит сожжению» Лето 1867 года Тургенев проводил в Баден-Бадене. Достоевский с молодой женой Анной Григорьевной был вынужден уехать из России, потому что «кредиторы ждать больше не могли» и хотели упечь Федора Михайловича в долговую тюрьму. Супруги Достоевские путешествовали по Германии. В Гамбурге Федор Михайлович отдался своей давней страсти, он играл в рулетку двенадцать дней без перерыва, проиграл все наличные деньги и заложил часы. Достоевские приехали в Баден 22 июня 1867 года. Федор Михайлович играл и проигрывал почти ежедневно. Анне Григорьевне пришлось заложить платья и многие вещи. Физическое состояние Достоевского было ужасающим, он предчувствовал наступление приступов «падучей». Тургенев тоже находился в мрачном настроение: его новый роман «Дым» подвергся сокрушительной критике. «Камни летят со всех сторон», – констатировал Тургенев. 28 июня 1867 года Достоевский посетил Тургенева. Разговор между писателями происходил с глазу на глаз. Свою версию происшедшего Достоевский изложил в письме поэту Майкову. По словам Достоевского, размолвка началась, когда он высказал свое критическое мнение о романе «Дым». Федора Михайловича возмутило, что «главная мысль, основная точка его книги, состоит во фразе: «Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Тургенев объявил мне, что это его основное убеждение о России. Он объявил мне, что он окончательный атеист. Ругал он Россию и русских безобразно, ужасно. Между прочим, Тургенев говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая – цивилизация и что попытки руссизма и самостоятельности – свинство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на всех руссофилов и славянофилов. Я посоветовал ему для удобства выписать из Парижа телескоп. – Для чего? – спросил он. – Отсюда далеко, – отвечал я. – Вы наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то, право, разглядеть трудно. Он ужасно рассердился». Далее Достоевский пишет, что взял шапку и уже собрался уходить, но напоследок заметил, что все немцы – плуты и мошенники. Тургенев якобы заявил: – Говоря так, вы меня лично обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского и горжусь этим!» Если перечитать книгу, ставшую яблоком разбора, то можно обнаружить, что Достоевский приписал Тургеневу высказывания персонажа романа «Дым» Созонта Потугина, полностью отождествляя автора и выдуманного им литературного героя. А теперь дадим слово Тургеневу и выслушаем его версию визита Достоевского. Иван Сергеевич рассказывал, что в 1865 году он одолжил Федору Михайловичу небольшую сумму денег, пять талеров. Достоевский пришел, чтобы вернуть долг, но денег не отдал и стал ругать «Дым» на чем свет стоит. – Ваш роман подлежит сожжению от руки палача, – заявил Достоевский. Тургенев осведомился о причине такой огненной критики и услышал обвинения в нелюбви к России и неверии в ее будущее. Иван Сергеевич молча дождался, когда Достоевский уйдет. Тургенев уверял, что никогда не стал бы откровенничать с Федором Михайловичем, считая «его за человека, вследствие болезненных припадков и других причин, не вполне обладающего собственными умственными способностями». Донесение потомкам В августе 1867 года, через полтора месяца после размолвки, Достоевский и Тургенев случайно встретились на вокзале, посмотрели друг на друга, но не раскланялись. Может быть, страсти могли улечься и вражда закончилась бы миром, но вскоре пропасть стала непреодолимой. В сентябре 1867 года редактор московского журнала «Русский Архив» Петр Иванович Бартенев получил из Петербурга письмо, которое буквально повергло его в шок. Неизвестный прислал копию письма Достоевского поэту Майкову, той его части, где Тургенев представлен прогнившим западником, ненавистником России. К этому документу прилагалась пояснительная записка. Аноним писал, что только потомки смогут разрешить спор Достоевского и Тургенева, и просил опубликовать текст не ранее 1896 года. Каким-то неведомым образом Тургенев узнал про письмо, которое он назвал «донесение потомкам». Иван Сергеевич не сомневался, что это дело рук Достоевского, и иронично заметил: «Вот после этого и пускай к себе соотечественников». Тургенев написал редактору Бартеневу: «Не подлежит сомнению, что в 1890 году и г-н Достоевский, и я – мы оба не будем обращать на себя внимания соотечественников. Если мы и не будем совершенно забыты, то судить о нас станут не по односторонним изветам, а по результатам целой жизни и деятельности; но я все-таки почел своей обязанностью теперь протестовать против подобного искажения моего образа мыслей». Бартенев опубликовал «донесение потомкам» через тридцать пять лет, в 1902 году. Потомки взялись за перья, и было написано множество книг о том, как поссорились Федор Михайлович и Иван Сергеевич. Причины находят в социальном неравенстве, в идейных разногласиях, но окончательно дым над враждой гениев так и не рассеялся. Любить можно по-разному. Любя Россию, люди с разными политическими убеждениями не должны превращать любовь в бесконечную вражду и злопыхательство, а дискуссии в ругань – этот путь никуда не приведет. И ссора Тургенева и Достоевского прекрасное тому доказательство. Дата публикации: 11 ноября 2018
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~DHBR4
|
Последние публикации
Выбор читателей
|