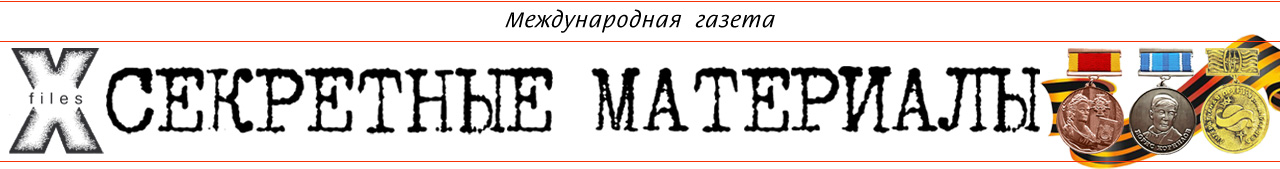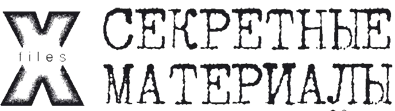|
КРИМИНАЛ
Наука против закона Кольта
Юрий Коптев
журналист
Санкт-Петербург
219
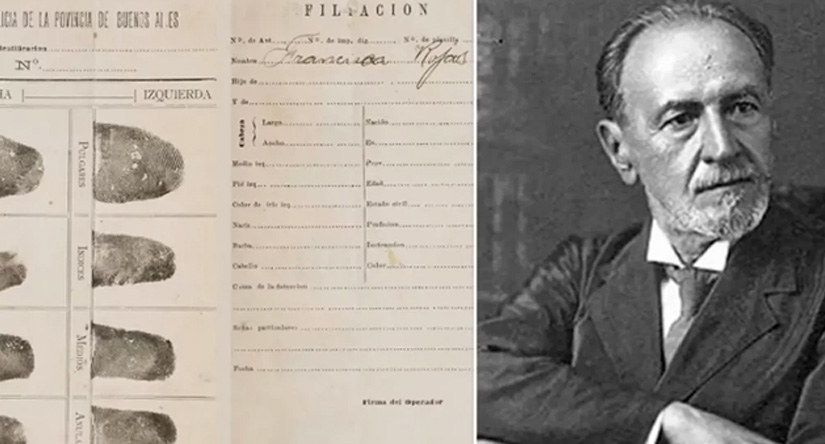
Джуан Вучетич
С 1901 года антропометрические методы идентификации преступников стали постепенно заменяться более простой и удобной, а что самое главное, точной дактилоскопией. Вскоре во всей Европе этот метод в полиции стал основным. В то же время в Соединенных Штатах Америки еще правил закон кольта: кто первым пустил в ход оружие — тот и прав. Южная же Америка жила более спокойной жизнью, хотя и там преступления совершались и раскрывались. Под знойным небом Аргентины Джуан Вучетич родился в 1858 году в Хорватии, в селе Лезина. Окончил народную школу. В 26 лет эмигрировал в Аргентину и устроился канцелярским служащим в полицию. Начальство сразу же обратило внимание на его способности к статистике и математике. Поэтому неудивительно, что через пять лет безупречной службы Вучетича вызвали к шефу полиции и предложили оборудовать антропологическое бюро. Для ознакомления с новой системой идентификации, применяемой во Франции, Вучетичу вручили привезенные из Парижа журналы с описаниями бертильонажа и... забытую кем-то из посетителей в кабинете начальства газету «Сьянтифик ревю» со статьей, в которой сообщалось об экспериментах Гальтона по снятию отпечатков пальцев. «Может, это вам тоже пригодится», — добавил шеф... Уже через восемь дней в маленьком бюро начали регистрировать и обмерять нарушителей закона, задержанных полицией. Но, как позже написал один из биографов, «новый антропологический метод не затронул клеточек мозга Вучетича, в которых покоились его творческие силы». Гораздо больше возможностей он увидел в газетной статье и вскоре соорудил примитивный станок для снятия отпечатков пальцев, который сразу же пустил в дело. Ни один из арестованных не избежал этой процедуры. Более того, заинтересовавшись, сохраняются ли узоры на пальцах умерших, Вучетич обследовал даже мумии в музее. Через шесть месяцев упорной работы Вучетич выделил приметы, по которым можно было классифицировать отпечатки пальцев. Удивительно, как быстро он нашел те же самые признаки, что и Гальтон, у которого на это ушли долгие годы исканий... Вучетич так увлекся дактилоскопией, что истратил почти все личные сбережения на приобретение регистрационных карточек и шкафа для них. Вскоре коллекция отпечатков пальцев уже с трудом умещалась в 60 ящичках. Вести поиски становилось все труднее. Вучетич снова начал изучать папиллярные рисунки и снова пришел к тем же результатам, что и европейцы, — стал подсчитывать линии между узловыми рисунками. Порученное дело по созданию антропологических кабинетов в других городах Аргентины уже мало интересовало Вучетича. Начальство, видя, что он все меньше времени уделяет основным обязанностям, искоса глядело на его исследования. Да и сослуживцы не разделяли этого увлечения и воспринимали его как личную забаву. Но лишь до поры до времени... Преступление в Некохеа 29 июня 1892 года в бедной хижине расположенного на берегу Атлантики поселка Некохеа было совершено двойное убийство. Жертвами стали внебрачные маленькие дети 26-летней матери-одиночки Франциски Ройас. Ночью она с жутким криком «Мои дети! Веласкес! Моих детей убил Веласкес!» ворвалась в дом к соседям. Действительно, шестилетний мальчик и четырехлетняя девочка были обнаружены в кроватке истекающими кровью, с разбитыми головами. Местный комиссар полиции тут же отдал приказ арестовать убийцу. Веласкес, немолодой рабочий с соседней фермы, был крестным отцом детей и не раз заявлял, что хотел бы жениться на Франциске. По мнению всех, кто его знал, это был добродушный, ограниченный человек. Многие слышали, что он, домогаясь любви Франциски, грозился убить тех, «кто для нее был дороже всего». И вот, вернувшись поздно домой, она нашла дверь своей хижины распахнутой и увидела убегающего Веласкеса — он все-таки выполнил свою угрозу... На допросе с побоями Веласкес не отрицал, что предлагал Франциске выйти за него замуж, но у него и в мыслях не было трогать детей. А вскоре до комиссара дошли слухи, что у Франциски был молодой любовник, который не раз говорил, что женился бы на ней, если бы не ее назойливые и обременительные дети. Комиссар заподозрил неладное. Дело запутывалось. Из Ла-Платы в Некохеа вызвали опытного инспектора полиции — некоего Альвареса. Начав следствие с нуля, он вскоре выяснил, что Веласкес во время убийства находился совсем в другом месте. У обвиняемого было твердое алиби, но из-за своей ограниченности он даже не сообразил привести столь важный довод в свою защиту. Все указывало на то, что детей убила сама мать. Но как доказать ее вину?.. Новый многочасовой осмотр места убийства ничего не дал. Альварес уже собирался покинуть хижину, когда солнечный луч осветил странное пятно на двери. Оно явно походило на кровавый отпечаток большого пальца. В ту же минуту инспектор вспомнил об исследованиях своего учителя Вучетича. Без лишних раздумий Альварес под недоуменными взглядами полицейских выпилил кусок двери с подозрительным пятном. Затем, вызвав Франциску, взял у нее отпечаток большого пальца. Даже ему, не искушенному в дактилоскопии, сразу стала очевидна тождественность обоих узоров. Альварес вручил Франциске лупу и предложил ей убедиться самой в этом факте. Женщина, до того не испугавшаяся ни побоев, ни угроз полиции, вдруг потеряла выдержку и призналась в содеянном. Да, это она, чтобы освободить путь к семейному счастью с возлюбленным, убила детей камнем, который выбросила в колодец. Но совершенно забыла смыть с двери кровь… Так впервые в мире при расследовании убийства отпечатки пальцев привели к изобличению преступника. Впереди Старого Света Возвращение Альвареса в Ла-Плату и его доклад вызвали у руководителей полиции большой интерес. И все же раскрытие преступления посчитали простым везением. Точка зрения начальства не изменилась даже после того, как Вучетич продемонстрировал впечатляющие успехи. С помощью дактилоскопии он идентифицировал личность неизвестного самоубийцы. Тот оказался преступником, недавно сидевшим в одной из городских тюрем. И еще один рецидивист, убивший хозяина магазина во время ограбления, был задержан — помогли отпечатки пальцев, которые он оставил на прилавке. А однажды Вучетич за один день идентифицировал по отпечаткам пальцев более двадцати сидевших в тюрьмах преступников! Однако полиция Аргентины равнялась на Европу, где для аналогичных целей использовались антропологические измерения. Не помогла и изданная Вучетичем за собственный счет книга «Общее введение к антропологии и дактилоскопии», где он доказывал преимущества метода Гальтона. Все было напрасно. Более того, в 1893 году Вучетичу рекомендовали прекратить дальнейшую работу с отпечатками пальцев. Все это не осталось без последствий — Вучетич заболел язвой желудка, которая мучила его всю оставшуюся жизнь... Но упрямый исследователь продолжал стоять на своем. Все деньги, вырученные от продажи личной библиотеки, он потратил на издание очередной книги — «Система идентификации». Ссылаясь на то, что Вучетич забросил работу по антропометрии, его пригрозили уволить. Но он не отчаивался. «Люди будут таскать деньги мешками в наш дом, когда моя система начнет приносить пользу во всех странах», — подбадривал он и себя, и домашних, которым ради его исследований приходилось во многом себе отказывать... С теми, кто опережает время, так бывает нечасто — но признание метода пришло еще при жизни Вучетича! Это было связано со сменой руководства полиции, которая произошла в 1894 году. Преимущество дактилоскопии было настолько очевидным, что отказываться от нее стало попросту невозможно. Более того, палата депутатов провинции Буэнос-Айрес выделила Вучетичу 5 000 золотых песо для покрытия его затрат при разработке метода. Однако сторонники бертильонажа не успокоились и добились отмены компенсации. И все же через два года антропологические измерения были заменены дактилоскопией. Это решение сделало Аргентину первым в мире государством, где отпечатки пальцев стали важнейшей уликой при расследовании преступлений... Выступая на Втором научном конгрессе Южной Америки в Монтевидео с докладом о дактилоскопии, Вучетич сказал: «Я могу вас заверить, что все те годы, в которые мы применяли антропометрию, мы, несмотря на все наши старания, не могли при помощи измерений доказать тождественность людей. Всегда имелись какие-нибудь различия в измерениях одного и того же человека. Это явилось причиной, по которой мы ввели дактилоскопию». В своих планах Вучетич уносился дальше. Он видел создание банка отпечатков пальцев всего населения страны, что не только облегчало борьбу с преступностью, но и позволяло бы идентифицировать жертвы катастроф и несчастных случаев, опознавать умерших, не имевших при себе документов. Он задумывался о международном сотрудничестве полицейских, обменивающихся своими базами данных... Через несколько лет южноамериканские страны, одна за другой, стали вводить в полицейскую практику систему, разработанную Вучетичем. Он сам не знал, что в своей работе опередил Европу. В те годы все научные достижения приходили в Новый Свет только из Старого. Об успехах Джуана Вучетича за океаном долгое время никто ничего не знал. Только через годы историки восстановили справедливость, внеся его имя в список создателей научной криминалистики... Страшная месть Почти в каждом детективном романе упоминаются отпечатки пальцев. Именно по этим отпечаткам сыщик, используя свою необычайную наблюдательность и проницательность, после длительных хитроумных рассуждений и невероятных приключений, в конце концов изобличает преступника. Чаще всего эти экскурсы в область дактилоскопии с литературной точки зрения не так уж и важны. Тем интересней стала загадка, с которой столкнулись литературоведы, исследующие творческое наследие великого американского писателя Марка Твена. Их озадачила одна история из книги «Жизнь на Миссисипи». «Отпечаток большого пальца, и что из этого вышло» — так называется одна из глав книги. Суть ее в следующем. Во время Гражданской войны в США в штате Миссисипи грабители ворвались в дом эмигранта Карла Риттера и убили его жену вместе с ребенком. Только благодаря счастливой случайности — налетчиков вспугнул подъехавший офицер с солдатами — этой же участи избежал и сам Риттер. По поведению налетчиков и их разговорам Риттер понял, что это были солдаты из ближайшего военного лагеря. Но как их найти, ведь лица нападавших скрывали маски? Однако убийца оставил на разбросанных бумагах кровавый отпечаток большого пальца. Вот по этой-то улике Риттер и решил его отыскать. Он сшил из тряпья одежду, купил синие очки и, притворившись бродячим хиромантом, стал гадать солдатам — по руке. К нему шли охотно, пытаясь узнать свою судьбу. Риттер наносил на бумагу отпечатки пальцев, смазанных красными чернилами. А затем каждую ночь, оставшись один, просматривал в увеличительное стекло свои трофеи. Наконец ему повезло: узоры совпали у рядового Франца Адлера. Узнав, когда убийца его жены и детей будет ночью стоять в карауле, Риттер в темноте подкрался к нему и вонзил в сердце кинжал... Совершив месть, Риттер потерял всякий интерес к жизни. Бродяжничал, перебиваясь случайными заработками. Через полтора десятка лет он попал в Европу, где устроился на работу сторожем в мюнхенский морг. В его обязанности входило следить, чтобы среди трупов не оказался кто-нибудь, еще подающий признаки жизни. Для этого к телам умерших крепили колокольчики — так, чтобы любое движение очнувшегося от летаргического сна сопровождалось звонком. Однажды холодной зимней ночью, когда продрогший Риттер сидел в сторожке, время от времени согреваясь коньяком, внезапно раздался такой сигнал. Собравшись с духом, он помчался в покойницкую, где увидел сидящего на скамье среди трупов мужчину. Риттер сразу же опознал очнувшегося — это был почти замерзший Франц Адлер, который был так замотан в саван, что не мог ни говорить, ни двигаться. Страшная догадка озарила Риттера: в лагере он зарезал другого человека! Но зато теперь у него появилась возможность отомстить. Он напомнил Адлеру о том, что произошло в Миссисипи много лет назад. После чего сел рядом, взял в руки газету и стал читать статью о людях, которые стояли на краю могилы, но спаслись благодаря глотку коньяка. Бывший солдат оказался удивительно живуч. Пытка длилась для него более трех часов, пока он не окоченел от холода. Отмщение состоялось!
Подменыши Марк Твен вспомнил о дактилоскопии и в другом своем романе — «Простофиля Вильсон» (1894 год). Здесь, помимо лихо закрученного приключенческого сюжета, есть и прекрасное описание самой методики снятия отпечатков пальцев. Суть романа сводится к следующему. В маленький городок Среднего Запада Пристань Даусона в поисках счастья приезжает юрист, ревизор и бухгалтер Дэвид Вильсон — добродушный малый с умными голубыми глазами. Он легко мог бы сделать себе карьеру, если бы не своеобразное чувство юмора. Например, он любил повторять: «12 октября — день открытия Америки. Замечательно, что Америку открыли. Но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо». Не способствовало процветанию Вильсона и его хобби — он снимал отпечатки пальцев. Этой процедуре он подвергал всех, кто только соглашался: друзей и знакомых, стариков и младенцев, рабов и их хозяев. Для этого «в кармане сюртука он постоянно носил плоскую коробочку с отделениями, в которых помещались стеклянные пластинки. Вильсон обычно просил собеседника провести руками по волосам, чтобы пальцы стали жирными, а затем прижать к стеклышку большой палец и, один за другим, остальные четыре». Ниже на бумажке Вильсон вписывал имя человека, которому принадлежали отпечатки. Таким образом ему удалось собрать отпечатки почти всех жителей города... Спустя несколько лет Пристань Доусона потрясло убийство всеми уважаемого судьи Дрисколла. На месте преступления был обнаружен кинжал, принадлежавший братьям Капелло, которых и сочли убийцами — несмотря на то, что кровавые отпечатки на рукоятке принадлежали совсем другому человеку. Но на это несовпадение, как ни старался Вильсон, никто не обращал внимания. Братьям грозила виселица. Вторая линия романа — история двух детей, которые одновременно родились в одном доме. Первый — племянник и будущий наследник судьи Дрисколла, а второй — хотя и сын рабыни-негритянки, прислуживающей в доме, но со светлой кожей. Негритянка, чтобы ее сын вырос свободным человеком и жил хорошо, подменила детей, когда тем было несколько месяцев от роду. Но Вильсон успел до этого снять отпечатки пальцев у обоих младенцев. Подрастающий и воспитанный как джентльмен, «белый» негр с юношеских лет вел непутевую жизнь, совершал кражи и подлоги. Однажды, чтобы раздобыть денег на покрытие карточного долга, он прирезал своего дядюшку Дрисколла. Кто мог его заподозрить? Но Простофилю Вильсона обмануть не удалось. Сличив отпечатки негодяя с оставленными на кинжале, он разоблачил убийцу. Правда восторжествовала. Простофиля наконец приобрел всеобщее уважение. Раб, носивший чужое имя, сначала был приговорен к казни, но в конце концов, что было хуже смерти, продан в места, где неграм жилось очень несладко. Истинный наследник Дрисколла оказался тоже не очень счастливым, так как не мог «выдавить из себя раба». Мамаше-негритянке, заварившей всю эту кашу, ничего не оставалось делать, как стать неимоверно набожной и замаливать свои грехи до конца дней. Загадка Марка Твена Таковы сюжеты двух произведений великого писателя. Вроде бы ничего особенного в этих историях нет. Ну, опознал герой романа по отпечаткам пальцев преступников, и что тут такого? А дело в том, что первое издание книги Марк Твена «Жизнь на Миссисипи» увидела свет в 1873 году, когда об использовании отпечатков пальцев для идентификации не то что в Америке, даже в Европе еще и речи не было. Так что же, он предвосхитил события? Не так давно выяснилось, что в первом издании «Жизни на Миссисипи» на английском языке главы под названием «Отпечаток большого пальца» нет. Марк Твен написал ее в 1883 году, и включена она была только во второе издание книги. Можно предположить, что Марк Твен, журналист и репортер уголовной хроники, страстно интересовавшийся всякими новинками и читавший много научной литературы, наткнулся на статью Филдса, которая была опубликована в 1883 году в журнале «Природа». Так и родился сюжет, вошедший в «Жизнь на Миссисипи»... Методики криминалистики развивались. Неизвестно, как быстро они доходили до Нового Света. Возможно, Марк Твен самостоятельно придумал технологию снятия отпечатков пальцев и идентификации преступников. Затем изложил свои мысли в «Простофиле Вильсоне». Главный герой рассказа смазывает руки жиром и наносит отпечатки на стекло. А затем еще читает небольшую лекцию о «физиологическом автографе» — «тонких линиях и складках, которыми природа наделила наши ладони и ступни ног». Но с той же долей вероятности можно предположить и другой ход развития событий. До Марка Твена дошли сведения о работах Вучетича, ведь Аргентина расположена совсем недалеко от Соединенных Штатов Америки, а до громких криминальных дел газетчики во все времена были охочи. Но это лишь версия... Так это или нет — неизвестно. Однако за несколько лет до того, как дактилоскопия была введена во многих станах мира, порожденный вымыслом Марка Твена симпатичный чудаковатый Простофиля Вильсон уже использовал этот метод. Не прошло и десяти лет, как аргументы, приведенные в романе, стали рассматриваться в судах как неоспоримые улики. Дата публикации: 5 января 2007
Теги: Джуан Вучетич отпечатки
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~QdMyK
|
Последние публикации
Выбор читателей
|